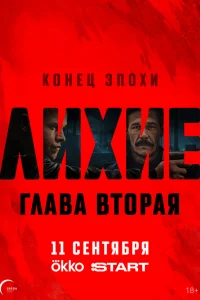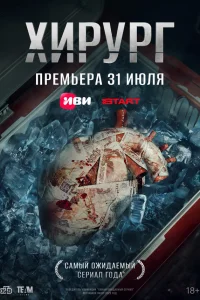Гликерия Давыдова пришла к месту, где обнаружили тело руководителя департамента культуры, и сразу почувствовала, что перед ней не простая трагедия. Тело действительно выглядело так, будто человек покончил с собой: положение, отсутствие следов борьбы, запертая изнутри комната. Но взгляд наткнулся на странную деталь, которая перебивала привычную логику происшествия: предсмертную записку кто‑то сдвинул, по столу тянулся размазанный кровавый след. Капли и полосы нарушали аккуратность сцены, словно молчаливый свидетель попытки что‑то скрыть. Давыдова не спешила с выводами — даже самый очевидный шаг требовал проверки. Она обходила комнату, изучала расположение предметов, тонкие изменения в окружении, которые могли выдать постановку. Коллеги и сотрудники департамента говорили вяло, их реакции перемежались недосказанностью и попытками сделать вид, что это просто беда. Записка, сама по себе, выглядела искренней, но след от нее на столе размывал этот образ: кто‑то мог её передвинуть, или помешать уже после смерти. Гликерия представляла, какие вопросы зададут эксперты: в какие моменты появилась кровь, была ли записка начальным фактом или подсказкой, кто имел доступ к кабинету в критический час. Размытость мазка требовала внимания к деталям — направлению исчезнувших капель, характеру трения, вероятному времени перемещения. Давыдова понимала, что выяснить правду будет нелегко: формальности и внутриведомственные интересы могли затемнить след, оставленный на столе. Она собирала факты, фиксировала несоответствия и готовилась раскрывать то, что скрывается за кажущейся «самоубийственной» версией.