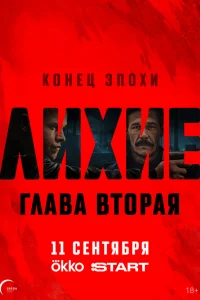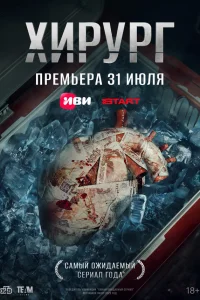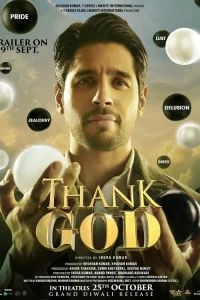Я вырос в квартале, где жизнь была измерена шрамами домов и списками имён, которые исчезали одна за одной. С детства видел, как дворовые товарищи становились чужими: кто-то уезжал в тюрьму, кто-то тонул в наркотиках, кто-то просто переставал приходить. Улицы учили не разговаривать о чужом горе и не задавать лишних вопросов, но именно вопросы преследовали меня по ночам. Я фиксировал детали — первый арест, непрошенный визит полиции, пустые ботинки на вешалке, замолкшие голоса. Они складывались в какую‑то пятнистую карту, на которой я пытался найти путь, ведущий в другую сторону.
Иногда мне казалось, что я просто оказался не в тот день в том месте, иногда — что меня удерживало чувство, которое я не мог назвать: осторожность, страх, случайное благоразумие. Были люди, чья помощь приходила тихо, как вздох, идущая от привычки подстраховать ближнего; были и те, чья жестокость загоняла в угол и заставляла выбирать иные пути. Я наблюдал, как меняются лица, как мне удаётся ускользнуть от цепочки повторяющихся катастроф, не всегда понимая, чего именно стоило это «выживание».
С годами вопросы не исчезают, они просто становятся плотнее, приобретая форму старых фотографий и застывших слов. Иногда я мысленно перечисляю имена — те, кто остался, и тех, кого потерял — и пытаюсь понять, благодаря чему я оказался тут. Ответы приходят рвано: случай, выбор, усталость, невероятная ловкость или чья‑то рука. Но ни одна версия не убирает ту пустоту, что оставляют ушедшие. Я запоминаю мелочи: шорох пакетов в подъезде, свет фонарей, дребезг железа ворот — всё это как сигнальные метки на моём пути. Иногда я благодарю тех, кто молчаливо уступал дорогу, иногда ругаю себя за трусость. И всё же главное — это постоянное чувство, что жить здесь было даром и наказанием одновременно, который я до сих пор пытаюсь принять.